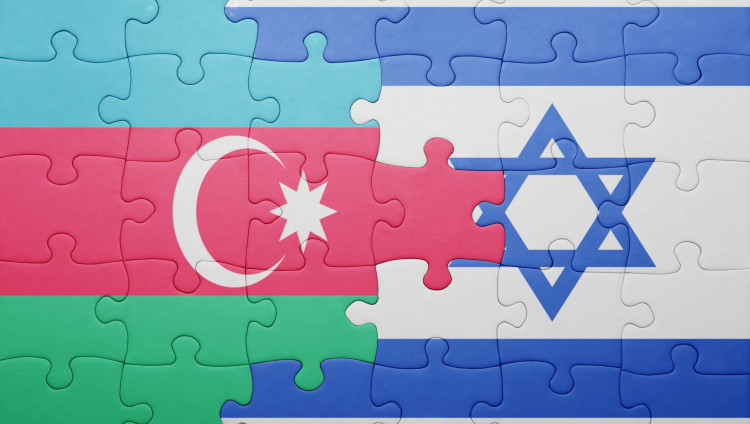Я не знаю. что такое национальная самоидентификация. Я знаю, что такое чувствовать себя еврейкой.
Рождаются ли с этим? Не знаю. Может быть, действительно где-то там, в переплетении генов, встроен ген этой самой национальной идентичности, и подозреваю, что если это так, то и ноты песен на идиш вплетены туда же. Потому что ничем иным не объяснить ту тоску и ту радость, которые наполняют сердце и душу, когда я слышу эти ноты.
И когда это появляется? когда приходит понимание?
Может быть, когда в памяти остаются бабушкины руки и мягкое певучее «мирфардир» и «алеймафдир». И не нужен перевод. В пять лет ты просто знаешь, что это про любовь. Очень важное про любовь. Самое главное. Потом ты задаешься, вопросом откуда это, и на каком это языке, и что значит. Но к тому моменту эти слова уже вплетены и в память, и в чувства, и в душу. Или разговоры на идиш в доме, редкие и обычно проходящие мимо, как и все взрослые разговоры. Так, фоном, отдельные фразы..
А потом длинное мамино отчество в школьном журнале. Настолько длиное, что еле помещается в строчку, самое длинное в классе. И это ощущение инаковости царапает , намекает на что-то новое, таинственное и непонятное. И хотя еще не задаешь вопросы, но уже понимаешь, что немного другой. И почему-то этому радуешься. И когда тебе как отличнице поручают отнести журнал, то открываешь его на странице информации о родителях и читаешь в графе «Национальность» напротив «Иммануиловна» — «еврейка» — и думаешь, как это круто.
Потом смотришь и ищешь еще по списку и находишь и невольно объединяешь это все в единое целое: еврейские фамилии и отчества. Мы. Человеку очень важно ощущать эту принадлежность к «мы». Особенно когда нас мало.
И потом одна из одноклассниц с типично еврейской фамилией заявляет, что завидует тому, что у меня фамилия русская, потому что своей она стыдится. А я никак не могу понять, почему. Почему нужно этого стыдиться или скрывать? Да, вплетены в гены идиш и местечко, да, вплетены Николаев и Витебск, Штерны, Киньковы и Брайнины. И хочется разобраться в этом, и вглядеться в это переплетение судеб и имен, и вслушаться в имена бабушки Сары и дедушки Ихиэля, тети Розы и Дяди Семена, и прикоснуться к этому родному и древнему. Стыдиться? Чего? Зачем? Своей инаковости? Так это ведь замечательно. И если с другой стороны вплетена в это олонецкая окающая речь русской бабушки, то и это прекрасно.
Гордиться? Как-то странно гордиться тем, с чем рождаешься. А вот искать отзвук этого в сердце, и так, чтобы оно онемело, и зашлось, и заплакало от колыбельной на идиш, – да. И на картинах Шагала вглядываешься в лица потому, что там могут быть родные. Они жили рядом, дружили, и мир местечек исчез, но остался в картинах, памяти, музыке .
И так щемит сердце от музыки клейзмеров , но это тоже позже, уже в Цфате, родном до боли, до слез. И голубизна его неба и домов тоже где-то в генах. И это необъяснимо.
Шагал, Витебск, Цфат – все закружилось и завертелось в голубом небе.
А тогда, в детстве, мир Фейхтвангера, первые шаги в историю. Скупые сведения, которые собираешь по крупицам. Слово «Израиль», мелькнувшее в новостях, переплетается с Рахиль и мирфардир. Первые библейские рассказы, прочитанные в атеистическом сборнике, и странно знакомые имена, выплывающие со страниц книг Косидовского.
И потрепанные книжки Шолом Алейхема, уносящие в мир местечка, в мир родных имен, слов, звуков, мыслей. Литература сомкнется потом с реальностью, уже в Израиле, когда выяснится, что лучшая подруга его родственница. А может, мы все родственники? С вплетенной в ДНК мелодией на идиш.
И первым страшным звуком — Бабий Яр. И рассказы бабушки… И первые вопросы: «За что?» «Почему?»
И антисемитизм, проникающий со словами друзей, которые тут же становятся бывшими.
А дальше по нарастающей — все больше и больше информации. И книги, и друзья, и перестройка с хлынувшим фонтаном информации.
«Жил Александр Герцевич — еврейский музыкант»…
«Жизнь и судьба» Гроссмана, Катастрофа врывается со всей своей силой и семейные рассказы переплетаются со страшной бедой, все еще не оплаканной до конца, все еще непостижимой. Иммануиловна в школьном журнале, звезда, нашитая в гетто. За что? Почему? За инаковость? За то, что слово не помещается в строчке? За мирфардир? За мелодию на идиш в генетической памяти?
Еврейская поэзия в бело-синем сборнике с Маген Давидом на обложке .
И бабушкин салат из запеченных баклажанов с уксусом и луком на большой коммунальной кухне театрального дома — «мирфардир» в последний раз. И ее уход.
И слова женщины из синагоги, что надо радоваться тому, что еврейка в 20 веке ушла среди родных и близких. Не многим так повезло в это страшное время. Это первая моя встреча со смертью. Страшно. Больно Непонятно. Как же так…
Странный человек в черном читает возле ее кровати, где она прикрыта белым, и льется незнакомый мне язык из черной небольшой книжки в его руках.
И завораживает, и я сижу на диване, прислушиваюсь и словно знаю, словно узнаю слова. Так иврит входит в мою жизнь и переплетается с родным русским, потому что потом не будет ощущения, что я учу, будет ощущение, что я вспоминаю. И это тоже сложно объяснить.
И бабушкин паспорт на столе со сложным и прекрасным Мирэль Ихилиевна вместо привычного Мария Ефимовна. Мирэль Ихилиевна — я хочу быть частью этот мира. Хочу!
Национальная самоидентичность! Вот она! Бабушкина комната, молитва на иврите, запах «Красной Москвы» и шум троллейбусов за окном. Я еврейка!
А потом в жизнь входит Израиль. Первые книжки, первая информация и полное счастье от того, что МОЖНО уехать!
Словно вся инаковость сложилась в единое целое и длинное мамино отчество превратилось в ключ к другой жизни и другому миру. Настоящему. И да, это везение.
Дар. Может быть, отсюда это мое ощущение еврейства как свободы? Не знаю. Но мне никогда этого не было стыдно, я всегда спокойно об этом говорила, мне это нравилось, потому что мне нравилось быть частью этого мира.
И пик всего этого — концерт Карлебаха в Питере. Он продолжался до поздней ночи, закрылось метро, и мы не смогли вернуться домой, потому что мы пели и танцевали. Всем залом. Флаги и свечи. Не инаковость, не одиночество, а сопричастность чему-то такому сильному, древнему и могучему, что душа взлетала туда, в небо Шагала.
Там, в том зале, все словно сошлось в единую точку, и когда в зале зажгли свечи, то все стало понятно. Мой народ, моя судьба, моя страна, моя семья.
А потом был Израиль. И было нелегко. И было и плохое, и хорошее, но никуда не убежишь и не денешься от себя и своей крови, от того, что там внутри живет, и поет, и говорит, и не требует перевода, вплетенное в генетическую память поколений.
Высокое небо военной базы под Беэр-Шевой, присяга сына. Имя дочки Мирэль. Певучий любимый иврит, ставший профессией. Иерусалим — то принимающий, то отвергающий. Живой веселый Тель-Авив, родная Самария и еще более родной голубой Цфат.
И совсем недавно вечер шаббата, вечерняя дорога в Цфате, поднимающаяся с кладбища к старому городу, полная тишина, наполненная тягучим воздухом и туманом, тишина, возможная только там, и одинокий человек, вышедший из этого тумана на дорогу, лицом к горе Мирон и поющий сказочно прекрасную: «Лэха Доди».
Он стоял там один в наступающей темноте и встречал Царицу Субботу. И я не слышала ничего прекраснее этого в жизни. Потому что он говорил с Богом, а Бог говорил с ним. И я затаив дыхание поверить, что оказалась рядом, стала свидетелем этого чуда. И маленькая доля абсолютного счастья перепала и мне.
Потому что я дома, это мой мир, моя страна, мой народ и моя семья . Так получилось. И я от этого счастлива.
Источник: Шакшука