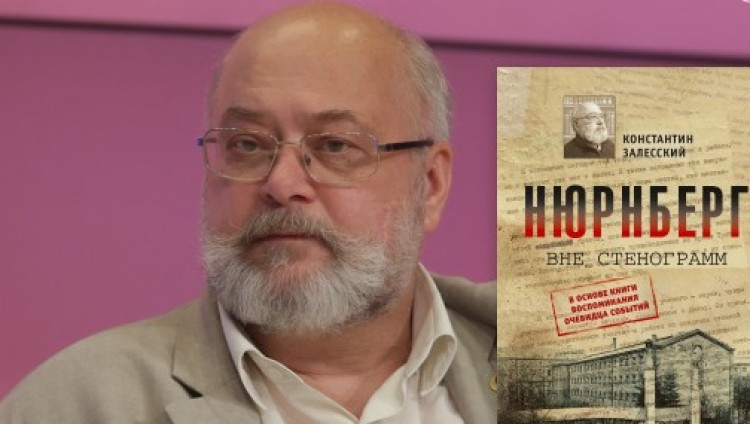Надо чувствовать каждого человека.
И я думаю, грешный,
Ну, а кем же я был?
Действительно, кем же он был, этот легендарный «больше, чем поэт»? Почему он в течении десятилетий был, как, может быть, ни один литератор, предметом горячих споров? На самом деле, далеко не про каждого русского стихотворца, даже великого, можно сказать, что он больше, чем поэт, что в нём «бродит гордый дух гражданства».
Поэт - достаточно высокое звание, и если кто-то из этой братии отказывается стремиться к этому самому «больше», то такую позицию тоже можно уважать. Вспомним знаменитый пастернаковский вопрос: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?». Нельзя называть отсутствие или наличие общественного темперамента достоинством или недостатком. Это едва ли не врождённое свойство литератора, его органика. Но как же надо быть благодарным поэту, который остаётся «не только стихами»!
Не в натуре Евтушенко было воспарять над действительностью. Активная гражданская позиция поэта при свойственной ему самостоятельности мышления - вот за что его последовательно травили советские руководители, не терпевшие даже малейшего своемыслия. И всё же остался он прежде всего стихами, а потом уже «не только». Уход Евтушенко заставил многих покаяться в неспособности при жизни оценить его по шкале вечности, не отвлекаясь на его нарциссизм, манеру одеваться, страсть к самоутверждению, на желание «аплодисментов и букетов».
Много лет он бывал у нас дома почти каждый день и подолгу. И я, обожавший его стихи, по молодой наивности ждал от него и в общении чего-то значительного, неординарного и даже великого. Теперь мне стыдно за то, что я уподоблялся максималистам, требовавшим от него божественного знака в каждом слове, жесте и поступке.
Не в своё ли оправдание писал Пушкин: «Пока не призовёт поэта к священной жертве Апполон...»?
Сила Евтушенко кроме всего в предельно беспощадном обнажении своих человеческих слабостей перед читателем, в отчаянном призыве не отождествлять его две жизни — творческую и человеческую:
Мы баб любили, водку дули,
Но ярко делали мы дубли (На смерть Е. Урбанского).
А вот пошляк,
шаман,
впрямь из шутов гороховых.
Ему подай шампань
и баб,
да и не ромовых!
Но вдруг внутри приказ
прорежется сурово,
и он -
народный глас,
почти Савонарола. (Поэзия чадит.)
И гений тоже слабый человек.
И гению альков лукаво снится,
а не одни вода и чёрный хлеб
и роковая ласка власяницы.
И он подвержен страху пропастей,
подвержен жажде нежности властей,
подвержен тяге с быдлом быть в комплоте,
подвержен поножовщине страстей
в неосвещённых закоулках плоти. (Пушкинский перевал)
Оказалось, что и у ранее иронизировавших есть любимые строки Евтушенко, которыми нынче переполнен интернет. Как-то он сказал начинающему поэту «Ты пишешь вообще. А надо каждого человека чувствовать.» Вот в чём его пронзительность. Уверен, я не оригинален в том, что уже при первом знакомстве с поэзией Евтушенко, был поражён: это же про меня! Многие ставили ему в вину слишком частое применение местоимения «Я». Но мы же говорим, оценивая выразительность какого-то стихотворения: так можно написать только о себе!.. Только такие, пропущенные через себя, стихи и трогают. Только такие стихи и относятся ко мне, к тебе, к нему, к каждому человеку. И Евтушенко необходимо было чувствовать ответную реакцию этого каждого человека. Он не мог существовать без читателя и даже слушателя, не мог писать «вообще», рассчитывая только на вечность. Бог дал ему талант чтеца - никак не меньший, чем поэтический, и он всё время читал свои стихи - если не с эстрады, то в гостях, причём не только, скажем, у нас дома (я не могу припомнить, чтобы он пришёл и ничего не прочитал, причём всегда по собственной инициативе, часто целые поэмы) или коллегам. У них с моим отцом был общий парикмахер, который рассказывал, что во время стрижки Евгений Александрович читал ему свои стихи. Когда я впервые увидел Евтушенко, я ещё толком не знал его, как поэта. В этот день он рассказывал у нас дома о своей поездке в Париж, упомянув и о старом русском эмигранте, подарившем ему книгу своих стихов. Одно из стихотворений «Вот киоск в Париже пыльном…» Е. А. так выразительно процитировал, что я его до сих пор помню. Особенно меня поразили последние строчки:
Как газета, мир стареет
И как новость, умирает…
Впоследствии, когда я, как и многие мои соотечественники, думал уезжать - не уезжать, мне вспоминались эти стихи, и звучавшую в них безысходность я связывал с состоянием души эмигранта, и это останавливало меня. Конечно, были и другие тормоза, но всё же…
Я присутствовал, думаю, на каждом его концерте. Не могу забыть, как он впервые прочёл на публике эти строки:
Когда-нибудь я всё-таки умру.
Быть может, это будет и разумно.
Надеюсь, что хоть этим я уйму,
Умаслю я умаявшихся уйму.
Не будет хитрой цели у меня,
Но кто-то с плохо сдержанною яростью
Наверно прошипит, что умер я
В погоне за дешёвой популярностью.
И весь зал начал стоя скандировать: «Не у-ми-рай-те!». Впечатление было настолько мистическим, что я с тех пор не мог избавиться от фантазии, будто он и вправду никогда не умрёт потому, что нельзя же обмануть чаянья почитателей. Евгений Евтушенко мог в чём-то обмануться, но сам обманщиком не был. Больше всего его упрекали в непоследовательном отношении к Ленину и его идее. Не смолкают кривотолки о его конформизме, якобы дошедшего до беспредела, иначе, дескать, как же его не ограничивали хотя бы в зарубежных поездках. Ещё как ограничивали! Может быть, как никого другого! Каждая поездка, каждая публикация давались ему с боем, с привлечением авторитетных коллег и поклонников, как отечественных так - и особенно - заграничных! А объяснять его неискренность в верности коммунистической идее тем, что в последствии он от неё отказался, значит не понимать или даже намеренно игнорировать такое понятие, как эволюция сознания, проще говоря, развитие, в данном случае ещё и замедленное полным отсутствием образования. Он и сам это признавал: «Нахватанность пророчеств не сулит». Воспринимающий действительность эмоционально, Евгений Александрович уже и в детстве мог заниматься только тем, что вызывало у него интерес. В «Автобиографии» он пишет, что не понимал, зачем, например, учить языковые правила, если он от природы грамотно писал и говорил. Насколько я могу судить по его рассказам, дело даже не в том, что он не окончил ни школу, ни - в последствии — Литературный институт, а в том, что он ни там, ни там толком вообще не учился.
Находились начинающие поэты, которые по незрелости брали с него пример — мол, необразованность способствует самобытности. Но как же метко он сам охарактеризовал подобную глупость: «Ведь это тоже самое, что подражать Байрону, искусственно прихрамывая!» Да, бывают такие явления - не учебники для него, а он для учебников. Но тут дело не только в таланте, но и в особой творческой природе. Впрочем, он был феноменальным, энциклопедическим знатоком мировой поэзии. И уж всем известно его подвижничество в области сохранения и пропаганды отечественного стиха. Эмоциональная насыщенность, афористичность и необыкновенная доступность поэзии Евтушенко - всё это просилось быть положенным на музыку или преображённым в театральное действо. И не напрасно просилось. Достаточно назвать 13-ую симфонию Д.Шостаковича с «Бабьим Яром» в первой части, его же «Казнь Степана Разина», постановку поэм «Под кожей статуи свободы» Ю. Любимовым в театре на Таганке и «Братской ГЭС» А.Паламишевым в театре на Малой Бронной. Большинство же своих известных песен Евтушенко написал с моим отцом, который и приобщил поэта к этому жанру. И до этого было множество попыток, которые не прекращаются и по сей день, создать песню на уже готовые стихи Евгения Евтушенко. В этом участвовало много композиторов, в том числе и отец. Однако «чистая» поэзия Евтушенко не укладывалась в жёсткий регламент песенного жанра. Исключение тут, пожалуй, составляет отцовская песня «Идут белые снеги» - и по органичности, и по популярности. Поэт был особенно благодарен Э.Колмановскому за эту музыку. Хорошо помню, как на вечере, посвящённом юбилею отца, Евтушенко прочёл именно эти стихи с таким окончанием:
Быть бессмертным не в силе,
Но надежда моя:
Если будет Россия,
Значит буду и я, и ты, Эдик, тоже!
Евтушенко особенно удавались подтекстовки, то есть стихи на уже имеющуюся музыку: «Бежит река», «Вальс о вальсе», «В нашем городе дождь» Э.Колмановского, «Не спеши», «Чёртово колесо» А.Бабаджаняна. Виртуозное владение стихом позволяло ему наполнять песню полноценным содержанием без скидок на труднейшую техническую задачу — уложить текст в прокрустово ложе музыки. Мне очень нравятся евтушенковские болванки. Когда стихи пишутся на готовую музыку, сначала создаётся набор слов в нужном размере. Это и называется болванкой, по которой поэт потом ориентируется. Именно так сочинялась песня «Старинное танго» (У меня есть тайна…). В тот день, когда отец наиграл Евгению Александровичу мелодию, шли первые, очень неблагополучные для Израиля дни одной из войн на Ближнем Востоке. И Евтушенко написал такую болванку:
А страна родная
Плачет, к нам взывая,
Все пески Синая
Утопив в крови….
Папе очень долго не давалась песня «Прости меня», стихи для которой предложил ему М.Пляцковский. Там была прекрасная идея: мужчина благородно просит прощения у женщины за то, что она хочет с ним расстаться:
Себя раскаяньем не мучай,
Печально голову склоня.
За то, что я не самый лучший,
Прости меня, прости меня.
Но в песне не было конца. На помощь был призван Игорь Шаферан. Добавилось
несколько выразительных строчек, но опять же из ряда перечислений:
Прости за то, что станет прошлым
С рассветом завтрашнего дня.
За то, что ты не любишь больше,
Прости меня, прости меня.
Довести эту мысль до неожиданного, но логического конца не удавалось. Отец решил посоветоваться с Евтушенко. Тот моментально придумал четверостишие, всё расставившее по местам:
Не утешай меня по почте
И слёз не лей, себя казня.
Прости себя и только после
Прости меня, прости меня.
Однако Е.А. посчитал свой вклад в общее дело недостаточно весомым для того, чтобы считаться одним из соавторов песни, хотя это было ему предложено… Евтушенко редко и неохотно откликался на предложения написать песню к фильму или спектаклю. Чаще всего режиссёр и композитор использовали уже готовые стихи Евтушенко. Наиболее яркой его театральной работой надо назвать песни к спектаклю «Тиль Уленшпигель», поскольку это был вообще его любимый герой, которому он и раньше посвятил не одно стихотворение. Одна из этих песен (композитор А. Петров), которую я не побоюсь назвать шедевром, приобрела особую популярность. Уже в самом её начале даёт себя знать «парадоксов друг»:
Когда шагают гёзы,
Шагают с ними слёзы,
Шагают с ними слёзы их невест.
Свобода здесь невеста!
Здесь ревновать не место,
А то солдатам это надоест!
Эту песню особенно выразительно исполнял Эдуард Хиль, за что поэт нежно прозвал его Хиль Уленшпигель... Евтушенко с необыкновенной теплотой относился к моему отцу. Ведь мир песни, который открыл ему Э. Колмановский, кроме всего принёс Евгению Александровичу экономическую независимость и значительно приумножил его популярность. А потом отец же познакомил поэта с А.Бабаджаняном... Первая же песня Евтушенко на папину музыку «Бежит река» приобрела всенародную известность. Евгений Александрович любил пересказывать подслушанный им разговор двух подружек, одна из которых утверждала, что это она сочинила «Бежит река», на что другая вскинулась: «И не стыдно тебе врать? Это же песня Машки из второго подъезда»... Безропотно подчиняясь замечаниям более опытного соавтора, поэт, мне кажется, не так глубоко переживал необходимость отказаться от богатства своего словаря и других выразительных средств всё той же чистой поэзии, как сам композитор, который вынужден был на этом настаивать. Отец безусловно понимал, что, скажем, первый вариант «Реки»:
Бежит речонка, как девчонка,
Бежит она, меня дразня.
Ах, кавалеров у меня до чёрта,
Но нет любви хорошей у меня.
чисто поэтически много сильней и красочней, чем более гладкий, вошедший в
песню:
Бежит река, в тумане тает
Бежит она, меня дразня.
Ах, кавалеров мне вполне хватает,
Но нет любви хорошей у меня.
Но нельзя же было не считаться с тем, что можно и чего нельзя себе представить в исполнении Людмилы Зыкиной или Ольги Воронец. Можно только посочувствовать отцу, имевшему огромный и многострадальный опыт общения с цепким пропускным аппаратом всесоюзного радио, где он к тому же пять лет проработал редактором, и потому постоянно одёргивавшему Евгения Евтушенко. Тот пишет:
Будет много дождей, ещё больше печалей («В нашем городе дождь»)
Отец тут же смягчает:
Может, будут печали.
Кстати сказать, исправление сделало возможным появление песни в эфире, но
не спасло её от убийственной критики, вплоть до «Правды» и «Советской
культуры».
Евтушенко пишет:
У нас, конечно, многое дороже.
И наш народ не слишком разодет («Американцы, где ваш президент?»)
Отец поправляет:
В газетах пишут: многое дороже и т.д.- имелись в виду американские газеты. И всё равно их песни не избегали выстрелов теле- и радиоцензуры. Песня «Коммунары не будут рабами» - уж такая правильная! - была написана к спектаклю «Братская ГЭС» по поэме, изданной в журнале «Юность». А для радио пришлось переделывать. У них было:
И от нас ни умельцы ловчить или врать,
Ни мещан шепотки, и ни Берия
Не добились неверья в Советскую власть,
Не добились в коммуну неверия.
Оказалось, что на радио и телевидении было запрещено упоминать имя Берии. Пришлось заменить эту строчку гораздо более слабой:
Ни предателей всех лицемерие
Но особенно драматична история создания песни «Хотят ли русские войны?»
Никакая оттепель или разрядка не отменяла задач милитаристского воспитания советского человека. И не было у цензоров более ругательного слова, чем пацифизм. И я видел, как страдал отец, заставляя Евтушенко отказаться, быть может, от лучшей строфы в песне после слов, которые вы знаете (не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли.):
Под шелест листьев и афиш
Ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж.
Пусть вам расскажут ваши сны
Хотят ли русские войны.
Это не только не прошло бы, но было бы произнесено сакраментальное слово «пацифизм», которое не только решило бы участь песни, но и осложнило бы дальнейшие отношения авторов с радио и телевидением. Потеря этих строк оказалась невосполнимой. У обескураженного поэта не было сил по-настоящему вдохновиться на замену, он лишь смог выдавить из себя нечто весьма привычное:
Спросите тех, кто воевал,
Кто вас на Эльбе обнимал:
(Мы этой памяти верны)
Хотят ли русские войны?
И после всего этого, уже зазвучав, песня попала под град уничтожающей критики за «опошление гражданственных стихов тангообразными интонациями». Но как раз эта песня сделала навсегда Евгения Евтушенко непотопляемым. Однако отношения Евтушенко с песней оставались сложными. Он уставал подчиняться не столько даже цензуре, сколько вообще тогдашнему формату жанра. И однажды предложил отцу: давай создадим певца, который будет петь только наши песни. Отец счёл это утопией. Он утверждал, что нет механизма, который заставил бы певца отказывать другим композиторам. Очень жаль. В своё время М. Таривердиеву удалась такая договорённость с дуэтом Г.Беседина - В. Тараненко... Может быть, читатель заметил, что почти всё ныне цитируемое в интернете, написано Евтушенко до перестройки. Он был чисто русским писателем, ему необходимы были страдания и преследования, и самым тяжёлым для него оказалось испытание благополучием и признанием. И лишь когда тучи опять сгустились и стало понятно, что попутно с коммунистической доктриной начинают уничтожаться моральные ценности вообще, Евтушенко создаёт песню, где стихи достигают самой высокой планки его поэзии, и не только песенной. Я не знаю, что раньше создавалось, музыка или стихи, но такого драматизма, такой глубины и значительности никак нельзя было ожидать и от Р. Паулса, конечно же, талантливейшего, но всё же больше эстрадного композитора. В песне «Дай Бог!» отразилось как бы отчаяние нескольких поколений, поверивших в своё счастье, когда стал виден конец коммунистической диктатуры, а затем осознавших кошмар безвременья. Получается, что дух и этих смутных дней Евтушенко почувствовал и выразил, как никто другой.
Начиная с шестидесятых годов всё бо́льшее раздражение власть предержащих вызывала гражданская и творческая дерзость Евгения Евтушенко. Известно, какую бурную и неоднозначную общественную и официозную реакцию вызвал его «Бабий яр», да ещё вскоре положенный на музыку Д.Шостаковичем, затем решительный отпор купеческим окрикам Н.С.Хрущёва на его встрече с творческой интеллигенцией, и, наконец, изданная в Париже автобиография, с недопустимой по советским канонам откровенностью вскрывавшая многие пороки развитого социализма. Так накопился материал для широко развернувшейся травли поэта - c письмами колхозниц в «Правду» и митингами на предприятиях и в учебных заведениях. Я тогда учился в музыкальном училище и помню, как один из выступавших на таком собрании ужаснулся: «Это измена! Эта автобиография будет переведена на все капиталистические языки!» Казалось, что у советских правителей и их прислужников всего то и дел, что травить этого поэта. Было даже непонятно, чем бы заполняли свои страницы газеты, если бы не Евтушенко с его «Автобиографией». Не молчали и газеты на местах, угодничая и выдумывая пассажи на подобии прочитанного мною на отдыхе в какой-то крымской газете четверостишия:
Бахвалился поэтик модный:
«Я и великий, и любимый, и народный!»
Читатели сказали: «Ерунда!
Великий - нет! Любимый - нет! Но инородный - да!»
Поползли слухи о самоубийстве поэта. Это так перепугало руководителей государства, что было принято совершенно беспрецедентное решение: Евтушенко были выделены средства на посещение ресторанов!!! Расчёт был на его довольно буйный нрав: именно в ресторанах он обращал на себя внимание, поэтому можно было надеяться таким образом нейтрализовать кривотолки. В разгар этого шабаша состоялся авторский вечер отца в одном из самых престижных залов Москвы - в Политехе, как его тогда называли. Когда в числе прочих соавторов-поэтов композитор пригласил на концерт Евтушенко, тот был до такой степени затравлен, что вообще не хотел показываться на людях, и, вынужденный принять папино приглашение, попытался спрятаться в самом верхнем ряду амфитеатра. Однако после успешного исполнения песни «В нашем городе дождь» отец представил его, и это вызвало оглушительную овацию. Евгений Александрович как-то мрачно и наспех поклонился, но зрители не унимались. И тогда на сцену выскочил директор зала и тихо сказал: «Эдуард Савельевич, у меня нет таких указаний, что Евтушенко разрешено выступать!». Но тот ни выступать, ни вообще отвлекать внимание на себя и не собирался, концерт вскоре был продолжен и успешно завершён, а на следующий день Эдуард Колмановский был вызван в ЦК и получил взбучку за «демонстрацию» Евтушенко. Однако на вопрос: «В чём конкретно состоит моя ошибка?» он никакого ответа не получил. И вообще за всей этой кампанией проглядывала полная растерянность от са́мой головы. Видно, властям хватило позора, которым они покрыли себя в истории с Пастернаком. Против Евтушенко не было принято никаких административных мер, но в такой ситуации уже и не нужно было официальных запретов. И тут кое-кому пришлось задуматься: можно ли было в полной мере перекрыть кислород автору стихов песни «Хотят ли русские войны?», без которой до этого не обходился ни один правительственный концерт? Начались затяжные маневры по перевоспитанию белой вороны. Евтушенко по очереди вызывали на проработку секретарь ЦК по идеологии Ильичёв и помощник Хрущёва Лебедев, требовали покаянных писем или на худой конец стихов. И хотя его поэму «Опять на станции Зима» разрешили напечатать в «Юности», власти не признали её актом осознания ошибок, поскольку поэт ограничился лишь описанием своей ситуации: «...покрытый пылью Англий, Франций и пылью слухов обо мне и - буду прям — не на коне». Лебедев спрашивал: «И где тут преданность партии?». И даже «Братская ГЭС», имевшая огромный резонанс и впоследствии ставшая канонической, не сняла опалы с крамольника.
Думаю, что не без задней мысли к редактированию поэмы был привлечён Я.Смеляков, в своё время достаточно отсидевший и потому пуганный советской властью. Евгений Евтушенко сцепился с ним в борьбе за основную мысль поэмы, высказанной в монологе гидростроителя Карцева: «С отцовской правдой против лжи отцов!» Впрочем, может быть, Смеляков и был прав - это не прошло бы главлит, поэма вообще не была бы опубликована. Так она и вышла с искалеченной строчкой («с отцовской правдой против подлецов»), которая, потеряв остроту главной мысли автора, превратилась в абсолютно расхожую. Тем не менее, поэма не была признана актом покаяния или признанием в любви к партии - там действительно ничего этого не было. Накал возмущения к тому времени у властей поубавился, и «Братскую ГЭС» покусывали в СМИ довольно вяло. Помню, как Евгений Александрович огорчился, когда один знатный рабочий, Герой Социалистического Труда, с которым они приятельствовали, сначала позвонил и сказал: «Женя, спасибо тебе, первый раз всплакнул над стихами на такую тему!», а потом появилась его же заметка в центральной прессе о советской литературе с таким пассажем: «Очень хорошо, что Евтушенко обратился к такой теме, как «Братская ГЭС», но жаль, что поэма у него просто не получилась»… Евтушенко не осуждал его: «Мы же не знаем, что ему обо мне наговорили». А функционеры от искусства всё ещё пребывали в растерянности. Перед каждым писательским сборищем, руководители этого творческого союза не гнушались звонком, скажем, маме Евтушенко, чтобы выведать, с кем он встречается и как в соответствии с этим вести очередной пленум. Но как же получилось, что в скором времени это идиотское «эмбарго» на Евтушенко было полностью отменено, и он стал полноценно печататься и концертировать? Чтобы это понять, надо обратиться к судьбе другого не менее яркого представителя советского искусства. Борис Бабочкин был выдающимся русским актёром, режиссёром и педагогом, развивавшем традиции Малого театра. Он был неподражаем прежде всего в русской классике. Но об этом знали в основном московские театралы. Для всего остального населения СССР он навсегда остался только Чапаевым, который стал для него и звёздным часом, и крестом. Этот образ так прирос к артисту, что его практически уже не могли снимать в других ролях, да и на концертной эстраде Чапаеву делать было нечего, а другой ипостасью Бабочкин, должно быть, боялся разочаровать публику. И вот кому-то из высокого начальства пришло в голову привлечь артиста к участию в правительственном концерте после очередного партийного то ли съезда, то ли пленума - точнее не помню. Зато помню, что это происходило в то самое, смутное для Евтушенко время. Мне неизвестно, кто придумал выход из сложного положения, в которое попал великий артист, который не мог ни отказаться, ни разочаровать зрителя, сбросив с себя чапаевскую папаху, ни рискнуть вообще провалиться, - но с этим единственно возможным решением нельзя было не согласиться даже отчаянному перестраховщику - Бабочкин прочёл стихотворение Евтушенко «Новый вариант «Чапаева»! Идея была блистательной ещё и потому, что эти, пусть и не новые, но необыкновенно страстные стихи относились не только к Василию Ивановичу, но и к фильму, то есть имели к артисту максимально прямое отношение. И, конечно же, Бабочкин читал с необыкновенным подъёмом и успех имел просто феерический. И после того, как по телевидению показали всех партийных вождей, с восторгом скандирующим стихам Евтушенко, оружие из рук его преследователей было выбито. Правда только до оккупации Чехословакии и появления стихов «Танки идут по Праге»… Однако у Евтушенко был ещё один злейший враг - обывательский снобизм.
Досужие демагоги, гораздые возмущаться советской властью лишь у себя на кухне, не могли простить поэту того, на что сами были не способны - открытого проявления гражданского мужества. Про таких болтунов Евтушенко писал:
Они влачат интриги, как вериги,
Они пророчат веянья и сдвиги,
Но никогда, породою мелки,
Привыкнувши в карманах делать фиги,
Не вынут из карманов кулаки.
Поэт постоянно чувствовал на себе недоброжелательное наблюдение этих теоретиков. Дал Брежневу телеграмму протеста в связи с чехословацкими событиями? Дозвонился Андропову, чтобы защитить арестованного, но ещё не высланного Солженицына? Написал и сумел опубликовать «Бабий яр»? Ну, ясное дело - погоня за дешёвой популярностью. Опубликовал в Париже свою автобиографию с далеко не традиционными рассуждениями о советской действительности? - ещё ясней: зарабатывает международный авторитет. Кроме возмущённых писем в «Правду» колхозниц и рабочих, которые этой автобиографии не читали, тогда в газетах стали появляться обличительные статьи литературных критиков (в равной мере не знакомых с этой автобиографией - у них же тоже не было возможностей её прочесть). Они-то уж наверное понимали абсурдность ситуации, но не могли отказать себе в удовольствии пнуть опального поэта. Мне запомнился такой пассаж (не помню автора): «Евтушенко хочет нравиться всем - от Лолобрижиды до Далайламы». А разве плохо, если гражданская позиция поэта вызывает уважение самых разных людей? Но и чисто лирические стихи Евтушенко, беззащитно-искренние и потому пронзительные - пользовались любовью самого широкого круга читателей. Тут уж его кухонным гонителям было трудно оперировать «дешёвой популярностью», но поскольку его стихи читают и цитируют в народе, то почему бы не приклеить ему другой ярлык: «поэт для быдла»? Я уже где-то цитировал ответ поэта на это обвинение:
Ещё мы посмотрим, кто быдло, кто нет,
И чей я поэт, мы увидим...
И как можно было давать такую характеристику поэту, мастерски использовавшему корневую рифму? Я не смею утверждать, что Евтушенко впервые её использовал, я не литературовед, у меня нет таких знаний. Но профессионалы почему-то об этом совсем не пишут. В кои-то веки в предисловии к двухтомнику Евтушенко Евгений Винокуров упомянул это явление, но только и написал, что корневая рифма облегчает работу поэтов. Но ведь стихам Евтушенко эта рифма придаёт особую выразительность, остроту, при этом не мешая пронзительной ясности и доступности его поэзии. И по жизни Евгений Александрович был очень доступен. Он часто гостил у отца, когда тот жил в «Рузе». Однажды приехали офицеры из располагавшейся неподалёку воинской части, чтобы везти папу на концерт. Отец, естественно, познакомил их с опальным в те годы Евтушенко. Служивые хмуро приветствовали его и всю дорогу пытались выговорить отцу за дружбу с отщепенцем. «А вы поговорите с ним», - предложил папа. Эта беседа состоялась, когда отца привезли обратно на дачу после концерта. Евтушенко совершенно очаровал представителей наших доблестных вооружённых сил, они за какие-то полтора часа стали его закадычными друзьями. В редколлегии журнала «Юность» обсуждалась поэма «Братская ГЭС» с привлечением широкой литературной общественности, поскольку это происходило после нескольких лет очередного «эмбарго» на Евтушенко.
Ситуация была не простой. Споры были нелёгкими. Неожиданно с критикой поэмы выступил литератор, которого Евтушенко считал своим другом. После обсуждения этот человек подошёл к Евгению Александровичу: «Я говорил искренне, я действительно так думаю». Евтушенко ответил: «Не сомневаюсь. Я даже не исключаю, что твои замечания были справедливыми. Но ведь ты думаешь и многое другое по многим другим поводам, но почему-то никогда и нигде этого не высказываешь». Вот такую ситуацию Евтушенко называл снобизмом во время чумы. В стихотворении «Картинка детства» он выражает своё болезненное отношение к стремлению черни походить по нему ногами:
И если сотня, воя оголтело,
Кого-то бьёт- пусть даже и за дело! -
Сто первым я не буду никогда.
Привыкнув к евтушенковской смелости, разного рода «доброжелатели» начали упрекать его за упущенные возможноти демарша, будто приклеив ему ярлык мальчика для битья. Евтушенко пришёл на похороны Хрущёва. Шаг достаточно рискованный. А Сергей Никитович - сын Хрущёва - публично выражает недовольство - Евгений Александрович отказался там выступать. А ведь мало ли какие тогда были обстоятельства у Евтушенко! Множество кухонных нареканий вызвало пассивное поведение Евгения Александровича на встрече молодых поэтов со Стейнбеком опять же в редколлегии журнала «Юность». Стейнбек долго и страстно говорил о негативных явлениях Америки - о расовой сегрегации, коррупции, преступности, социальной несправедливости. А в заключении заявил: «А теперь я хотел бы послушать, как вы умеете критиковать свою действительность». Наступило напряжённое молчание. Положение спасла Белла Ахмадулина, с наигранным смущением уверив Стейнбека в том, что молодые поэты просто стесняются мэтра. Когда слухи об этом событии распространились достаточно широко, на кухнях стали осуждать не провокативное поведение Стейнбека, а нерешительность Евтушенко, который, оказывается, должен был воспользоваться случаем, чтобы лишний раз вскрыть язвы советского социализма и заодно не ударить в грязь лицом перед Стейнбеком. И всё это в помещении, наверняка набитом чекистами! А ведь там было достаточно других литераторов и сотрудников редакции. Такого рода несправедливость Евгений Александрович тоже переживал очень глубоко. В стихотворении «Колизей» он пишет:
Улюлюкатели, науськиватели,
Со своих безопасных мест
Вы визжите, чтоб мы не трусили,
Чтобы лезли красиво на меч.
Но настоящим звёздным часом для злых языков была не раз возникавшая ситуация, в которой Евтушенко должен был идти на компромисс с властью. Ведь это тянуло на ещё один, самый обидный ярлык - «конформист»! Поэт действительно часто шёл на переделки, дописки или некоторый камуфляж в стихах или публицистике. Но разве не стоило назвать стихотворение «Монологом битников» ради напечатания таких, например, строчек:
Двадцатый век нас часто одурачивал,
Нас, как налогом, ложью облагали.
И дальше:
И руки усмехались, аплодируя,
И ноги, ухмылялись, маршируя!..
Разве не стоило употребить достаточно общих вполне лояльных к власти слов ради того, чтобы усыпить бдительность цензуры, пропустившей главную мысль оратора: «неинформированный человек - неполноценный член общества!»? Кто ещё мог в советское время так высказаться, и не на кухне или в самиздате, а в публичном выступлении? Наблюдатели, «привыкшие в кармане делать фиги», утверждали, что на самом деле, всё это было игрой, потому, что никакой пользы евтушенковские демарши не приносили, а только работали на его репутацию. Но разве «Наследники Сталина» или «Бабий Яр» не способствовали духовному оздоровлению общества? А в связи с некоторыми поступками Евгения Александровича можно говорить и о реальных результатах. Одним из самых мужественных и значительных гражданских актов Евтушенко я считаю его поведение на печально известной встрече Хрущёва с творческой интеллигенцией. Как известно, единственным, кто дал отпор невежественным высказываниям Никиты Сергеевича на выставке в манеже, был скульптор Эрнст Неизвестный. Хрущёв был непредсказуем. И степень опасности, нависшей над скульптором, определить было невозможно. В народе даже стал ходить каламбур: манеж - это могила Неизвестного. Возмущённый произведениями живописи и скульптуры, выставленными в манеже, вождь повелел организовать ему встречу с деятелями искусства. Судя по списку выступавших на этом мероприятии, Хрущёв выразил желание выслушать самых непокорных, чтобы он мог ответить им соответствующими указаниями. Евтушенко посвятил своё выступление почти исключительно защите своего друга - Эрнста Неизвестного, которого надо было просто спасать. Быть может, несколько слукавив, Евтушенко просил не ставить крест на скульпторе, а посмотреть, в каком направлении он будет развиваться. И тут возник диалог, который мне бы хотелось воспроизвести точно, но память может в каких - о деталях подвести (это относится ко всей моей статье. Но в основном я помню всё достаточно ясно).
Хрущёв: горбатого могила исправит!
Евтушенко: Никита Сергеевич, а я-то думал, что прошло время, когда людей
исправляли могилами!
Хрущёв: послушайте! У нас нет клуба Петефи!
Петефи-великий венгерский поэт. Клуб Петефи был объединением венгерской творческой интеллигенции, Именно в этом клубе зародилась идея восстания 1956 года. Понятно, насколько угрожающей была последняя реплика Хрущёва. Однако что-то до него, видимо, дошло. Через несколько дней он позвонил поэту. Конечно, Никите Сергеевичу было не по чину и воспитанию извиняться, но он явно хотел нивелировать свою резкость. Он пригласил Евгения Александровича встречать Новый год в Кремле, «а то, ведь, сожрут». Как будто, не он сам чуть не погубил и Неизвестного, и Евтушенко, а какие-то таинственные «они». Так вот, если Евтушенко своими смелыми и откровенными высказываниями заставил понять правителя-самодура, что тот перегибает палку - это ли не практическая польза для общества? В последнее время интернет наводнён лирическими стихотворениями Евтушенко, чему я очень рад. Одно время поэт мог стать жертвой непонятного мне стремления определённой части общества к клишированию. Вагнер - великий реформатор, Шопен - великий мелодист, Солженицын — символ борьбы за справедливость. И за этими эпитетами забывалось, что и Вагнер - великий мелодист, Шопен - великий реформатор, а Солженицын — великий писатель. Вот и об Евтушенко стали говорить больше, как о смелом оппозиционере, чем, как о выдающемся поэте. Он и сам сомневался, не становится ли просто трибуном. В стихотворении «Эстрада», Евтушенко писал:
Я научился вмазывать, врезать,
Но разучился тихо прикасаться...
Время постепенно расставляет всё по своим местам. Оно выстраивает баланс между вечным и приходящим. Оно утихомиривает злые языки. Ушла и чума советского уродства, и порождённый ею, снобизм.
Нынешнее поколение может в полной мере оценить лирику Евтушенко. Благодаря его труду, таланту и настойчивости, сегодня мы богаты уникальной антологией русской поэзии. Но, как он сам писал, «что-то ведь уходит всё равно». Только жившие в наше время могут оценить его «талант не бояться». А какой это был непревзойдённый декламатор стихов, причём не только своих! А его публицистика! А телевизионные лекции для старшеклассников! Всё это затрудняет ответ на его же вопрос, который стал эпиграфом моей статьи. Действительно, какое слово было бы объемлющим для Евтушенко в анкетной графе «род занятий»? Сделанное им невозможно обозначить каким-то общепринятым определением. А, может, и не надо искать общепринятого? Ведь всё становится ослепительно ясным, если на вопрос, кем он был, ответить: он был и остаётся Евгением Евтушенко. И закончить я хочу четверостишием, в котором поэт выразил свою роль в нашей истории на удивление звонко и точно:
И голосом ломавшимся моим
Ломавшееся время закричало!
И время было мной, и я им был,
И что за важность, кто кем был сначала!